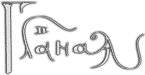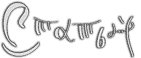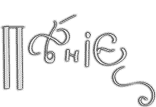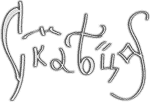|
|
Своеобразие Липованской богослужебно-певческой традиции. Липоване - таково наименование русских старообрядцев, проживающих на территории Румынии, а также на территориях бывшего королевства Бессарабии, присоединенных к СССР в 1940г., т.е. на Южной Украине и в Молдавии. Эта общность сложилась на протяжении 18 века в результате многочисленных миграций староверов из южных и центральных областей России на юго-запад. Среди переселенцев было много представителей крестьянского сословия и казаков - в основном приверженцев "беглопоповской" Ветковской церкви. Впоследствии именно липованами была проведена основная деятельность по приему Босно-Сараевского митрополита Амвросия, давшего начало Белокриницкой старообрядческой трех-чинной иерархии. Сейчас на территории Румынии существует Белокриницкая митрополия, т.е. самостоятельный духовный центр, равный по значению Московской старообрядческой митрополии. В последнее время издавалось много исторической литературы, посвященной миргациям липован и приему ими иерархии. В основном это статьи, опубликованные в периодических сборниках "Старообрядчество", "Духовные ответы", "Мир старообрядчества", в материалах семинара Общины старообрядцев-липован Румынии и конференции Музея истории и культуры старообрядчества. Богослужебно-певческая традиция липован также становилась объектом исследования - в частности, Н.Г. Денисов занимался описанием и изучением липованских рукописей, и, в пределах границ бывшего СССР, экспедиционной работой. Этой теме был посвящен раздел его диссертации, а также один из докладов на конференции ПСТБИ. Богослужебно-певческая липованская традиция, безусловно, явление в нынешнем древлеправославии уникальное - прежде всего тем, что она до сих пор находится в живом состоянии, несмотря на многочисленные трудности. Можно сказать, что сегодня она представляет собой целостную систему, в которой органично взаимодействуют многие стороны: уставная, книжно-рукописная, учебная и клиросная практика, изустное и домашнее пение. Основным ее признаком и отличием от прочих традиций, наверное, можно назвать преобладающее значение изустного компонента в пении и обучении, что свойственно крестьянской культуре в целом. Именно поэтому, на наш взгляд, липованская певческая традиция нуждается в комплексном изучении. Типологически липованская традиция является неоднородной, хотя и очень цельной. "Крупным планом" она делится на две локальных ветви, центр одной из которых находится на Буковине, а другой - в Добрудже, т.е. в устье Дуная. Сами липоване говорят, что на Буковине поют "более растяжно", и прибавляют, что "они видели это где-то на Руси". Одним из отличий буковинской ветви является более обширный репертуар духовных стихов, а также более прочное сохранение традиции чисто мужского пения. Кроме этих двух ветвей не забудем еще и о тех общинах, которые оказались присоединены к СССР в 1940г. - единое прежде пространство оказалось разделено, и за прошедшие 60 лет эти различия увеличились. При подчинении Московской старообрядческой митрополии, безусловно, выросло влияние московской певческой традиции на подчиненные ей общины - отчасти, из-за нехватки местных кадров духовенства. В результате большинство общин Украины и Молдавии сегодня либо целиком восприняли "российскую" традицию, либо совмещают ее отдельные элементы с местными, и поэтому их обследование сегодня сопряжено с проблемами. В пределах же собственно Румынии традиция держится настолько прочно, что даже отдельные молодые клирошане, прошедшие обучение в Московском старообрядческом духовном училище, никак не повлияли на ее возможное изменение. Сегодня, несмотря на бурные процессы секуляризации и миграции старообрядческого населения, традиция соблюдается и воспроизводится за счет многодетных семей, нескольких старых и прославленных монастырей, а также за счет существования целых династий священнослужителей, певцов и учителей, где опыт накапливается многими поколениями. Сегодня в Румынии существует более 70 старообрядческих поповских общин, включая монастыри. Большинство из них - сельские. К сожалению, материал, накопленный сегодня по липованским общинам, не слишком обширен. Лично автору удалось обследовать 14 общин, сделать 5 отдельных записей домашнего пения и интервью, просмотреть 11 рукописных книг. Суммарный аудиоматериал составляет примерно 50 часов звучания. Кроме этого, при подготовке к докладу был использованы аудио-и видеозаписи из колекции Архива Археографических экспедиций МГУ 1986 и 1996 гг. и из экспедиций о.С.Мацнева 1999 и 2000 гг. Автор приносит благодарность руководителю экспедиций И.В.Поздеевой и иерею Сергию Мацневу за предоставление этого бесценного материала. Обозрение традиции, наверное, уместнее всего начать с краткого сообщения о рукописных книгах, отметив в их бытовании самые существенные детали. Прежде всего, в Румынии среди всех книг, применяемых на клиросах, 95% - рукописные, созданные в ХХ веке. В каждом храме хранится до 10 рукописных книг 19-20 вв., из них предпочитают пользоваться новейшими. Каждый "грамотей" - христианин, знающий крюки, будь то дьяк или иерей, считает своим долгом написать за всю жизнь несколько крюковых кинг, от 1-2 до десятка. Пишут тушью, пером или камышиной, на самой обыкновенной бумаге. Иногда создаются "энциклопедические" рукописи, содержащие до 5 вариантов каждого песнопения, включая демественные и путевые, зафиксированные подряд под одним названием, например, "Елицы во Христа крестистеся", "Отца и Сына". Каждая создаваемая рукопись в чем-то является оригинальной, писец избегает механического копирования. Он преследует несколько целей: во-первых, создать рукопись, удобную для употребления в своей общине, т.е. записать в первую очередь сложившийся в ней современный корпус песнопений и устранить разночтения, возникшие при этом с более старыми книгами. То же касается нюансов исполнения. Очень часто при основных знаках ставятся дополнительные графические штрихи, которые не относятся к числу известных дополнительных знаков - таких, как сорочья ножка, подвертка и пр. Очень распространен знак, похожий на петельку. Как объяснили певцы, у него нет фиксированного значения, он указывает на мелизматические прибавки к "классическому" напеву, в каждом случае оригинальные и закрепленные за отдельным случаем исполнения. Это подтверждает высказывания самих певцов о том, что для них первично запоминание напева, а уже во вторую очередь - запоминание крюков. Мы подошли к тому, чтобы выразить одну из основных особенностей данной традиции: напев, записанный в книге, невозможно воспроизвести точно "по-липовански", не зная его местной версии. Часто одни и те же попевки и обороты, будучи записаны одинаковыми знаками, в соседних общинах интерпретируются с некоторыми отличиями. Это одно из своеобразных качеств липованской традиции - умение певцов воспроизводить орнаментированый напев и создавать другие подобные версии в русле своей культуры. О печатных книгах А.И.Морозова и Л.Ф.Калашникова староверы говорят, что они дошли в Румынию только в 50-е годы ХХ века. Их до сих пор "считают новиной" и "держат с краю", раз "это принято Цер-ковью" - то есть их не отвергают, но при этом активно и не используют. Очень редко могут открыть книгу, чтобы спеть одну из праздничных стихер, или "Иже херувимы", или причастный стих, но поют не строго по крюкам, а орнаментируют попевки по обычаю. Объясняют это так: "Поем, глядя в крюки, но не буква в букву: У нас больше стараются петь "вавилонами" - мягко, плавно, чтобы затронуть душу. Если я как уставщик, как певец на службе не затронул душу человека своим пением, то я не сделал ничего: А если петь строго, соблюдать все крюки, то этого уже не получается". Вот такой парадоксальный вывод сделал наш современник Иов Иван, 38 лет, дьяк и учитель, бывший референт митрополита Леонтия. Из этой особенности вытекают и другие следствия. Конечно же, в обучении детей преобладает клиросная практика, а крюки изучаются отдельно - одновременно с запоминанием напева или после того. К сожалению, в липованской традиции отсутствуют какие-либо методики развития голоса, слуха, памяти - основная учеба происходит на клиросе, т.к. в классе невозможно воспроизвести обстановку реального богослужения. Именно там формируются навыки подражания опытным певцам, развития внимания, реакции, силы голоса, входа в обычный - достаточно жесткий - темп богослужения. Конечно, это сопряжено на первых порах с проблемами: детям часто трудно приспособиться к регистру стариков, пение становится нестройным, но новичков никогда не удаляют с клироса до появления результата. "Учили нас немножко грозно - кнутом, но если бы не кнутом, то мало бы что осталось, меньше было бы людей в Церкви. Но они знали, как учить". Сейчас на клиросе лидируют в основном молодые дьяки, т.к. за годы румынской "советской власти" преемственность не прерывалась, обучение шло в воскресных и летних школах при храмах и монастырях. Как мы видим даже по столь малым примерам, отношение к клиросному пению в липованской традиции своеобразное, непохожее на наше привычное. Постараюсь перечислить сейчас требования к образцовому клиросу, предъявляемые в липованской традиции. 1. В храме должно быть два клироса (так положено по Уставу), желатель-но чисто мужского состава. Женщины допускаются в крайнем случае: либо читать, либо по 1-2 человека подпевать. Или же, если на храмовый праздник приезжают монахини, они составляют отдельный "лик". В не-которых случаях в мужской хор наряду с мальчиками допускают и де-вочек до 12 лет, пока у них есть дисканты. 2. Как обычно в старообрядческой традиции, членами хора являются при-хожане данного храма (члены церковной общины) или гости. Отсутствует профессия церковного певца, оплачивается только "ставка" дьяка - руководителя хора и уставщика, который исполняет и обязанности педагога. Для остальных участие в клиросе - это послушание. Клирошане - это такие же молельщики, как и другие прихожане. Так же исполняют все положенные поклоны во время чтения и пения, для этого клироса всегда делаются просторными и располагаются только внизу, по краям солеи. 3. Все поющие и читающие стоят лицом к алтарю, в том числе и дьяк. В основном отсутствует инструмент дирижирования. Очень интересен во-прос об указке. Как известно, указка появилась на старообрядческих клиросах в начале ХХ века, но не сразу получила распространение. На Украину и в Молдавию она проникла только в послевоенное время, и ныне применяется не всегда, а чаще при исполнении крюковых песнопений по книге. В Румынии, где основной корпус песнопений бытует изустно, не часто доведется увидеть указку - автор видел ее только однажды на монастырской службе при исполнении "Иже херувимы" и причастного стиха, а кроме этого - в домашнем пении. Функция указки в липованской традиции - не дирижирование, не напоминание напева, а только подспорье для дьяка, чтобы удобнее следить по книге - ее именно ведут по книге, в отличие от российских приходов, где ею дирижируют в воздухе. 4. Никогда не задается тон. Дьяк запевает, певцы на первом же звуке стараются подхватить напев - тем более, что обычно он хорошо известен. Характерная деталь: если на клиросе много гостей, то они могут "перебить напев" и запеть по-своему, т.к. всегда соблюдается воля большинства. Безусловно, следование принципам устной традиции накладывает сильный отпечаток на слуховые особенности певцов. При ошибках хор слаженно подхватывает напев с любого тона, не путаясь в тонах и полутонах. Однако, "лествица", или "горка" (звукоряд) для певцов как бы не существует, его не могут правильно воспроизвести, весь поют тонами - для них это абстракция. Другое дело - напев. Его запоминают во всей цельности, непременно связывая с текстом, не получило распространения пение "по солям". Это говорит о преобладании линеарно-мелодического компонента над гармоническим. Следствием этого является и украшение напева, и даже украшение самого звука - обычно в каденциях. Здесь и скольжение, и трели, и т.наз "раскачка" - нефиксированный тон. Особенно вариативно исполняется знак "палка", точно так же как и 1-я статья из статей накончальных, и часто вообще 2-й от конца попевки (любой) знак. При таких особенностях слуха, конечно же, встречаются отступления от чистого унисона, но они являются эпизодическими. Длительная "втора" не применяется, расхождения встречаются в неакцентных областях, как правило, на неустойчивых звуках. Интересные комплексы образуются при захвате тресветлого согласия: если звук "Фа высокое" применяется не как основной звук в напеве, а в виде вторы, то он звучит не как В, а как Н - например, в напеве входного "Архиерейского", или в попевке "розмет" 7-го гласа (потенциально - любых попевок с нисходящим фригийским тетрахордом, например, из "семейства" пригласок 1 гласа). Линеарное мышление приводит не только к "тотальной" орнаментации напева по горизонтали и вертикали, но и к замедлению темпа орнаментируемых песнопений. В результате отдельные песнопения чрезвычайно разрастаются по протяженности - например, демественная напевка литургийного песнопения "Слава Тебе, Господи" звучит почти 3 минуты. Другие песнопения, напротив, сжимаются - их либо поют речитативом ("Воскресение Христово видевше", "Отче наш"), либо вообще читают. Ирмосы чаще поются напевкой, кроме больших праздников. В самогласнах орнаментируются каденции, а речитативные зоны не изменяются. Стиль распева всегда обусловлен, во-первых, уставом богослужения, во-вторых, величиной и торжественностью праздника. Так, на будничной службе "Слава Тебе, Господи" поют знаменным распевом поскору, на воскресной - "растяжно", на праздничной - демеством, при большом собрании духовенства - демеством "растяжно". Один из дьяконов объяснял это так: в алтаре в это время совершается прощение, все священнослужители по очереди идут к кресту, поэтому пение должно быть протяженным и, кроме того, сопровождаться колокольным звоном. Так же протяженно звучит Трисвятое и "Аллилуия" по Апостоле. При этом всегда псалмы 102-й, 145-й и 33-й на литургии читаются, только иногда самогласно поется 33-й псалом - этому есть и косвенные указания в дореформенных певческих рукописях: "псаломщик глаголет", "в монастырех же глаголют". Есть четкие различия между воскресной и праздничной литургией: воскресная и "наемная" служба поется знаменным распевом с обычными прибавками. Праздничная - демеством от "Аллилуии" или от Евангелия до "Един Свят" включительно. Таким образом, основной репертуар является закрепленным и разночтения в вариантах могут быть минимальны. При таком подходе певцы заранее знают, что именно им петь и когда. (Собст-венно, к этому пришли и многие профессиональные регенты современно-сти). Очень важным в липованской традиции оказывается вопрос протяженности песнопения. Все "вавилоны", т.е. орнаменты, являются для этой культуры каноничными, и, одновременно, никому не выгодно нарочито затягивать службу. Чтобы этого не происходило, во-первых, для каждого мелизматического песнопения существует 2-3 варианта, различных по протяженности и предназначенных для разных служб. И, далее, каждый певец должен уметь сокращать фиты в напеве, где, например, в крюковом тексте на слог приходится до 60 звуков. Очень ценится в общинах слаженное служение, где певцы поют в темпе, близком к возгласам священника. Также, при каждении и тайных молитвах певцы должны точно рассчитывать время звучания песнопения. "Если священник быстро делает обиход, мы фиты пересягаем" (перескакиваем, - говорит дьяк, "а иногда надо прибавить, чтобы дать возможность прокадить диакону церковь". Так, при постоянном стремлении к орнаментации напева, служба обычно не затягивается, а, напротив, идет достаточно живо. К сожалению, краткое время доклада не позволяет подробнее остановиться на других интереснейших вопросах - например, распространении липованской традиции путем миграций по всему миру от Бурятии до Австралии и американского штата Орегон. Заслуживает отдельного исследования и анализ различных стилей пения и разновидностей мелизматики. Но даже в самом начале работы, при первом прикосновении к этой традиции становится ясно, что она ценна не только с этнографической точки зрения, но и с исторической, и с практико-богослужебной: возможно, ее изучение поможет ответить и на некоторые вопросы дореформенного бытования знаменных песнопений. |
|
|